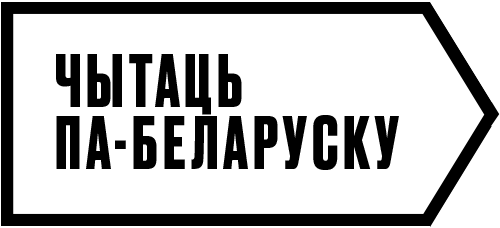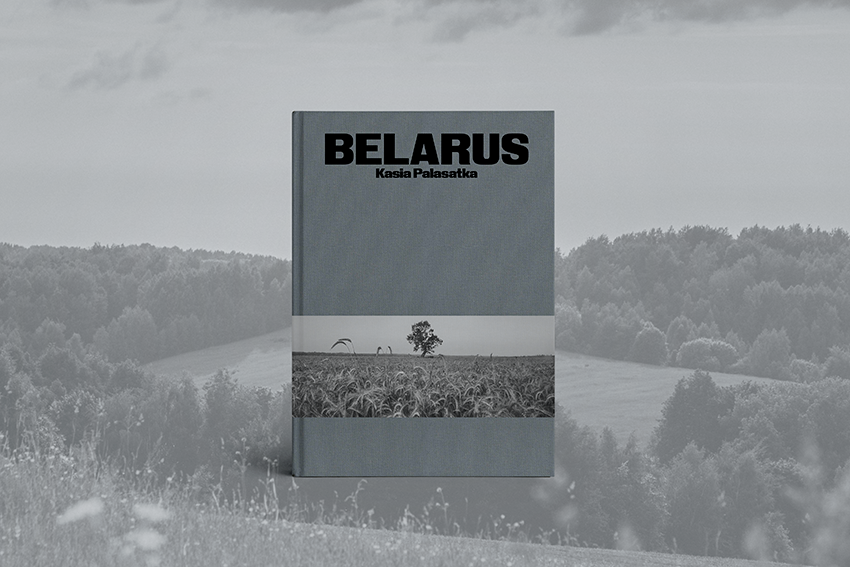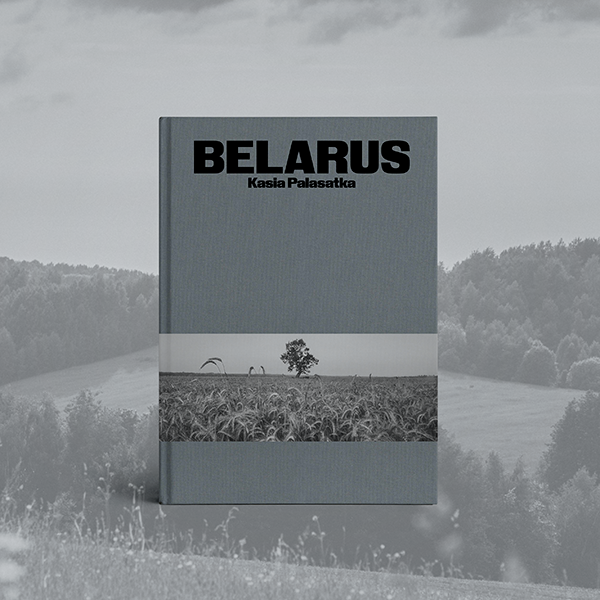Тут даже камни живые. Этнограф – об уцелевших полесских традициях
Полесье – уникальный регион, который неохотно впускает людей к себе. Его болота надежно законсервировали народные традиции, впитавшие тысячи лет истории. Пятро Цалка, полешук, этнограф и директор туристической компании «Море путешествий», рассказал о мифах и легендах древних беларусов, которые можно найти не в книжках, а в современных полесских деревнях.

Пятро Цалка
Что такое Полесье?
По Полесью есть много исследований, первое из которых проводил в 1903 году беларусский филолог и этнограф Ефим Карский. Он обозначил культурную территорию в пределах Полесской низменности: в ее состав входят не только южные беларусские земли, но и часть польских, украинских, российских. Что касается Беларуси, здесь выделяется Восточное и Западное Полесье.
Любой беларус при слове «Полесье» вспомнит Гомельщину и Брестчину, и на это есть несколько причин. Во-первых, многие известные полешуков – выходцы из этих регионов. Во-вторых, есть устойчивое убеждение, что Полесье – это болото. И в-третьих, с 1930-х по 1950-е годы существовала Полесская область, и у значительной части людей Полесье ассоциируется именно с этой областью с центром в Мозыре.
«Для местных жителей это миф, Атлантида, о которой все знают, но никто не может сказать: вот здесь Полесье»
Исключительная особенность Полесья в том, что за счет природной изолированности там сохранилась традиционная культура, которая насчитывает более 1000 лет. Благодаря Ивану Мележу и его «Людям на болоте» мы понимаем, кто такие полешуки. Это люди, которые живут закрыто и выходят из своих куреней на «большую землю» два раза в год: зимой, когда все замерзло, либо летом, когда просохло. Все остальное время они живут на своих болотах и варятся в собственной культуре, не выпуская ее наружу.
– Очертить точные границы Полесья просто невозможно, – говорит Пятро Цалка. – Я приезжаю, например, к матери в Симоничи, это Лельчицкий район, и спрашиваю: «Мамо, а дзе Палессе? – Ото дзе твая баба Каця жыве, у бок Турава, то ўжо Палессе. У нас яшчэ не Палессе». Приезжаю к бабе Кате (всего километров двадцать, а через болото и пять): «Бабо Каце, слухайце, а дзе Палессе? – Гэто дзе му па грыбу ходзім, праз балота, дзе маці твая жыве. Там Палессе, а у нас яшчэ не Палессе». То есть для местных жителей это такой миф, Атлантида, о которой все знают, но никто не может сказать: вот здесь Полесье.
Как отмечает исследователь, сейчас вырабатывается некий бренд Полесья как места со знаком качества. Полешук – трудолюбивый, талантливый, крутой парень. Лучшие писатели, певцы, мастера – будто бы все с Полесья. А в начале ХХ века было наоборот: полешуков считали затюканными, отсталыми, людьми, которые в своих болотах не знают прогресса. Репутация региона изменилась в лучшую сторону как раз из-за высокой сохранности традиционной культуры и понимания ее ценности.
Западное и Восточное Полесье отличаются языком, народными костюмами, обрядами. На западе больше ощущается языковое влияние Польши, на востоке – Украины. Пятро Цалка исследует Гомельское Полесье и рассказывает о его самобытных традициях, которые спустя столетия дошли до наших дней.
Каменные девочки


Это уникальное явление Восточного, а точнее – «Убарцкага» Полесья (территория Лельчицкого района у реки Уборть). Когда говорят о каменных крестах, все сразу вспоминают Туров. Но туровские кресты известны в христианском контексте. И только на Полесье вы встретите много историй, что кресты – это каменные бабы, а точнее девочки. У этой девочки даже будет имя – Евка.
Давным давно, когда еще бог по земле ходил, мать с дочкой рожь косили. А тут туча идет, и мать кричит на ту Евку: давай скорее, потому что дождь намочит нашу рожь. А Евка ж маленькая: села и сидит. Мать говорит: пусть бы ты камнем стала! Поворачивается – гром как грянул! И вместо Евки уже камень стоит.
В деревне Данилеги (сейчас Данилевичи Лельчицкого района) эту историю знает каждая женщина. Перед Пасхой, в Красную субботу, данилевичские женщины идут к Евке, раздевают и заново одевают ее. Когда идешь просить, что-то несешь: фартушек, платочек, цветочек. Принесенное ранее снимается и сжигается на костре со словами: «Ідзі да бога дымам». Сжигают все, даже деньги, которые в течение года люди здесь оставляют. Это дохристианский культ – контакт через огонь, жертва, которая должна быть принята богом сверху. На следующее утро, в воскресенье, с восходом солнца Евке несут новые гостинцы: фартушек, или яйцо, или освенчаную паску. Кто первый принесет, тот будет самый счастливый в этом году. Весенние хороводы – Лелюшки, как их называют на Полесье, – тоже начинают водить возле Евки.
Фото предоставлены героем материала
Для местных жителей Евка живая, они относятся к ней с большим уважением: «Мы з ягод ідомо, то Еўцы ягод поклодомо, ці цвяточка поклодомо, ці хусточку новую на празнік зав’яжамо, а то я моністу ёй повесіла свою».
– Место, где стоит Евка, – сакральное, его можно назвать капищем, святилищем. Евка стоит у кладбища, где похоронены предки. В советское время пытались перенести этот каменный крест туда, где стояла раньше церковь – «цвінтар». Когда перетащили, начал дохнуть скот. Для местных жителей это был знак, что нужно вернуть все назад, потому что что-то нарушилось во Вселенной. Когда Евка вернулась на место, все стало хорошо. Для человека традиции это очень важно, – рассказывает Пятро Цалка.
К каменной девочке приезжают круглый год: срабатывает принцип традиционной магии: подобное вызывает подобное. Раз Евка – девочка, у нее просят детей. Но сам обряд устраивают на Пасху, который совпадает с началом нового земледельческого года. В дохристианские времена это был для полешуков самый важный праздник. И если с туровскими крестами христианство затерло первоначальную языческую историю о каменной бабе, то на Полесье и тысячи лет не хватило, чтобы люди стали воспринимать ее как каменный/мертвый крест. Этим Полесье и уникально.
Юрьевский хоровод


Фото – Ганна Найдзёнава
Еще одное сильное обрядовое явление – Юрьевский хоровод (деревня Погост, Житковичский район). Этот обряд также связан с земледелием, когда нужно первый раз после зимы вывести в поле скот и контактировать с землей.
«Эти обряды полешуки делают для себя, не для кого-то»
Сельская община идет закапывать кусок хлеба в ржаное поле, чтобы оно дало такой же кусок хлеба. С собой берут грабли, на которые вешают фартуки. Люди идут «оплодотворять» поле, ведь земля – это женщина. Туда несут зеленый фартук как знак девичества, а также всего дикого, что есть в пространстве. А возвращаются уже с красным фартуком: землю «лишили целомудрия», закопали кусок хлеба – она даст урожай. За этим языческим деянием несут икону Богородицы (ведь в традиции праздника места пусто не бывает) и колядную звезду (ведь Коляды для беларусов – предвестники будущего урожая). Проходит шествие на Юрия, 6 мая.
– Эти обряды полешуки делают для себя, не для кого-то. Сейчас мы начинаем открывать их широкой аудитории – одновременно это и плюс, и минус. Вносим в ЮНЕСКО Юрьевский хоровод – в деревню приезжают сотни людей, участвуют со своими песнями, костюмами. Получается такой «винегрет», в котором ничего сакрального уже не осталось. Традиции в их сакральное время нужно оставить людям, а не делать у этого шоу. В течение года можно о них рассказывать, показывать, но нельзя вмешиваться в сакральное пространство в сакральное время, – считает Пятро Цалка.

Фото – palasatka
Русалье
Мы привыкли к диснеевским русалкам, которые живут в море, с рыбьими хвостами. А полесские русалки живут во ржи, у них есть руки-ноги. По мифологическому сознанию, русалка – это девушка, которая не успела потерять девственность и покончила жизнь самоубийством из-за любви. И теперь она мстит тем, кто еще не любил или любит. Это самые красивые девушки, которые могут защекотать до смерти, поэтому все парни боятся ходить ночью в рожь.
В Великом Боре Хойникского района сохранилась традиция водить русалку. Раздетую до рубашки (а раньше – и голую) девушку одевают в зелень и гонят в поле. Опять мы обращаемся к беларусу-земледельцу, которого хлебом не корми – дай ритуалы с ржаным полем провести. Нас за тысячу лет христианства научили, что зелень в Троицких обрядах – символ святой Троицы. Но беларусы знают, что это Русалье, сакральный период, когда человек может выходить в дикую природную стихию и «брать» ее в культурное пространство – к дому. Вид зелени зависит от региона: могут быть березки, клены, ивы, а часто это трава, растущая на болоте, например аир.

Фото – palasatka
Знахарство и колдовство
Если хочешь найти максимум знахарей, колдунов, шептунов на метр квадратный – тебе исключительно на Полесье. Там в каждой деревне есть те, кто тебе «присушит или отсушит». Колдовство – характерная полесская черта, причем и в женском, и в мужском начале. Колдун-мужчина будет даже сильнее женщины, ведь это явление более редкое.
Купалье, которое считается стереотипным символом Беларуси, для Полесья не самый знаковый обряд. Полешуки не расскажут вам про цветок папоротника – скорее они расскажут какую-нибудь историю про ведьму. Полешуки даже словом «Купалье» не всегда пользуются. Они говорят: «О, то Ведзьмін Іван». Иван – это явное влияние христианской культуры (тот, кто очищает людей и приводит к богу через воду). А беларусы понимали, что окунаться в воду под солнцем – тоже очищение. Иван Купала для полешуков – Ведьмин Иван, потому что в это время идет бесконечный разгул ведьм. Они ждут этот день, чтобы причинить людям какого вреда.
«Колдовство – характерная полесская черта»
Христианство и язычество переплелись и в полесском знахарстве. Любой классический заговор начинается с молитвы «Отче Наш…» а после идет чистое язычество: болезнь зубами выгрызают, ножом режут, хлебом выкатывают, водой выливают.
– Моя прабабушка научила бабушку, а та – мою мать жечь рожу. Я хожу в школу в ХХІ веке, а мать эти красные пятна на коже человеку накрывает тряпками и жжет, – рассказывает Пятро Цалка. – Я смотрю: ага, раз летит вверх – значит, рожа горит. Для меня это абсолютно нормальное явление. Знаю случаи, когда и сейчас врачи из больницы отправляют пациентов на Полесье к бабкам лечить рожу, так как эта болезнь обычной медицине почти не поддается.
***
Чтобы больше узнать о Беларусском Полесье, Пятро Цалка советует обратиться к изданию Академии наук «Традиционная художественная культура беларусов», 6 том «Гомельское Полесье и Поднепровье». Но чтобы понять характер этого региона, по нему нужно путешествовать, разговаривать с людьми и камнями, ведь на Полесье даже камни живые.